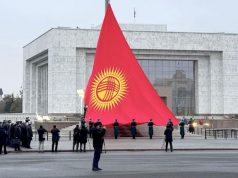Поведение Д. Трампа в мировых делах не оставляет никаких сомнений в том, что постольку, поскольку сохраняется классическая геополитика, за главным столом глобальной политики находится тройка условно сверхдержав — США, Россия и Китай. Здесь будет разыгрываться ее эндшпиль и ключевая интрига всей мировой политики. Затем в свои права полноценно вступит многополярный миропорядок, формирующийся на межцивилизационной основе. Только этим видением мира как «мира сильных суверенных держав» можно объяснить явное стремление Трампа во что бы то ни стало запустить процесс нормализации отношений с Россией, что может случиться в Будапеште. Сказывается давняя максима Генри Киссинджера, которая гласит, что в «треугольной дипломатии» нельзя конфликтовать одновременно с двумя другими сторонами треугольника — надо разыгрывать одного партнера против другого, как это получилось у него самого с Китаем в начале 1970-х.
С Москвой все вроде бы как ясно, хотя американцы явно упрощают стоящую перед ними задачу, но вот как быть с Китаем? Тем более что за годы не только украинского конфликта, но и во все два последних десятилетия жесткой однополярной политики Москва и Пекин только крепили свое стратегическое «партнерство без границ». Причем, хотя оно и напоминает их стратегию «спиной к спине» 1950-х, на этот раз все происходит в качественно новой глобальной среде и в условиях формирования в мире нового технологического уклада. Не исключено, что эта новая система координат мирового развития, которую уже не будут задавать инстинкты и предрассудки западных элит (и, раз на то пошло, всей западной цивилизации и Запада как исторически сложившегося политического сообщества), рано или поздно заставит западные столицы, и Вашингтон прежде всего, принимать ее как данность и поумерить свои аппетиты.
Пока же объявленное Д. Трампом решение ввести стопроцентные тарифы против китайского экспорта с 1 ноября в ответ на якобы недобросовестное поведение Пекина поднимает сразу несколько пластов вопросов, но прежде всего устойчивости государств в условиях использования партнером торгово-экономической взаимозависимости как оружия. Как известно, первый такой дебют администрация Д. Трампа отозвала в июне, когда сторонам удалось договориться по тарифным делам, но ситуация с тех пор изменилась.
Прежде всего Пекин решил ударить по США их же оружием, введя лицензионный порядок экспорта редкоземельных металлов и продукции из них, притом что на Китай приходится 70% мирового производства этого критического ресурса и 90% его переработки (КНР ни с кем не делится соответствующими технологиями). То есть Вашингтон оказался в состоянии, когда его буквально схватили за горло, что американцы сами привыкли делать в отношении всех остальных, включая друзей и союзников. Пока они начали издалека — стали вводить портовые сборы для торгового флота Китая. Пекин ответил санкциями против дочерних компаний южнокорейской судостроительной Hanwha Ocean.
В принципе, в США никогда не скрывали, что рассматривают Китай в качестве стратегического вызова своей гегемонии. Оформление этой позиции состоялось в первое президентство Трампа, когда в числе прочего президент попытался добиться тотальной международной изоляции Китая как якобы источника коронавирусной «заразы» (подлинное положение дел прояснилось, как водится, значительно позже). На этот раз Трамп демонстрирует более системный подход с упором на тарифные ограничения и разрушение китайских рынков и инвестиционных хабов повсюду в мире, включая Европу и Латинскую Америку (в особенности Венесуэлу).
Новый элемент — выдвижение Пекину ультиматума в канун начавшегося 20 октября пленума ЦК КПК, где, как полагали в Вашингтоне, Си Цзиньпину придется столкнуться с остатками либерально-олигархической оппозиции, организованной в том числе по провинциальным кланам. То есть налицо намерение повлиять на его решения — с опорой на то, что в истории Китая называлось компрадорской буржуазией. На ум приходит Октябрьский пленум 1964 года в СССР, когда на Н. С. Хрущева повесили в том числе обострение с США в формате Карибского кризиса, который на деле Москва выиграла (но это поскольку американцам свойственно действовать по отработанным схемам: так, при развязывании украинского кризиса в качестве желаемого прецедента бралась Русско-японская война, спровоцировавшая революцию 1905 года в России).
Как бы то ни было, Китай лидирует в области десяти критических технологий и производств, оставляя США в лучшем случае на втором месте. Именно это и лежит в основе «китайского вызова», который, по логике, подсказанной в том числе опытом конфликта на Украине, обнажившим ущербность ставки на военную силу, должен быть разыгран на поле торгово-экономической взаимозависимости (то, что отсутствует у США в отношениях с Россией).
Ранее введенные американцами, скажем, умеренные тарифы (35%) уже привели за девять месяцев к падению взаимной торговли на 15,6%. Остается порядка 426 миллиардов долларов, которые могут исчезнуть постепенно, пока Китай будет расширять свой внутренний рынок, а производители и импортеры — сокращать свою прибыль. Но тогда снизится эффект воздействия на экономику и внутреннее состояние Китая (американцев явно прельщает опыт Синьхайской революции 1911 года, которая привела Китай к военно-политической раздробленности по провинциальному признаку, аналогичной средневековой Европе, — так называемой эпохе милитаризма, а затем к гражданской войне между Гоминьданом и коммунистами).
Объявление Трампа уже привело к падению американских фондовых рынков, включая криптовалюту, что указывает на слабое место в позиции республиканской администрации, стремящейся любыми средствами, включая криптовалютные подпорки («Гениальный закон» и другие меры законодательного характера, легализующие частнобанковскую эмиссию стейблкоинов), оттянуть крах фондового рынка на период после промежуточных выборов следующего года. В США по собственному опыту Великой депрессии прекрасно знают, что последствия экономического краха сопоставимы с послевоенной разрухой. Поэтому, по сути, балансируют на грани в расчете на то, что от разрыва торговых связей первым рухнет Китай, а им удастся, как это было в пандемию, выйти сухими из воды посредством печатного станка (тогда бизнесу компенсировалось 90% ущерба и было напечатано 3,5 триллиона долларов, покрывших 50% федерального бюджета).
Однако у проблем американской экономики есть и другой фундаментальный срез, а именно — выбор между гегемонией доллара и реиндустриализацией: первое отрицает второе, так как никто (кроме иностранцев, которых Трамп к этому принуждает! — вспомним соответствующие обязательства, взятые Евросоюзом и Саудовской Аравией, и аналогичные требования к Токио и Сеулу, которые от них отбиваются) не готов вкладываться в реальный сектор, пока можно играть на бирже, которой нужен сильный доллар. Рано или поздно Трампу придется разрешить проблему «воздушности» национальной экономики, когда на финансовый сектор приходится как минимум 70% ВВП (пять процентов в 1913 году), и пойти на нечто радикальное (и тогда, скажем прямо, социалистическое) в русле Нового курса Ф. Д. Рузвельта.
Остается ждать, встретит ли Трамп на саммите АТЭС в Южной Корее, который пройдет в аккурат с 29 октября по 1 ноября, китайского лидера, готового играть по американским правилам, то есть в одни ворота, пойдет ли он сам на попятную, обнаружив свой блеф, или встреча вообще будет отменена. В российскую политику уже не раз заходили с дальневосточного угла: это не только Халхин-Гол, но и Англо-японское соглашение 1902 года, ставшее дипломатической подготовкой войны Японии с Россией. Поэтому от твердости Пекина будет зависеть, насколько прочными будут наши собственные позиции в разговоре с американцами.
У Трампа остается умеренный вариант реагирования на новое состояние Китая, а именно на путях разрядки — с такими идеями на страницах журнала Foreign Affairs уже выступали некоторые политологи, например консервативный британский историк Нил Фергюсон (осел в Америке под крылом неоконов). Понятно почему. Однажды — в отношении расслабленного, идеологически зашоренного и склонного к благодушию позднего советского руководства — это сработало в 70-е, когда США переживали самый глубокий за все послевоенное время экономический кризис и вышли из него только в начале 80-х на путях неолиберальной экономической политики (счет за этот выбор предъявлен сейчас).
Американцам надо было выиграть время, так как гонка вооружений стала неподъемной для их экономики, и они его выиграли. В среде российских экономистов бытует мнение, что именно тогда мы могли «догнать и перегнать», если бы не дали себя развести на разрядку, не отказались от цели обеспечения технологического суверенитета (все равно 50% экономики работало на оборонку!) и проявили гибкость на экономическом фронте. Опыт Китая последних 40 лет как раз это и доказывает: можно развиваться, не «жертвуя принципами», уже не говоря о том, что если хочешь сохранить то, что имеешь, надо меняться — других путей нет.
Таким образом, можно ожидать, что «гонка развития», к которой присоединилась и Россия, приведет к кристаллизации отношений в «треугольнике» к концу этого или началу следующего года — через потрясения или без оных.