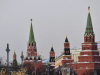Свое отношение к пренебрежению правилами я подробно изложил в предыдущей статье (см. «Грузия и мир» – «Пятый всадник Апокалипсиса»). Это, сразу скажу вам, сложная (комплексная) тема. В той моей статье отрицание правил было подано в качестве определяющей черты нашей эпохи, причем, утверждение это касалось не только Грузии, поскольку данная проблема давно обрела глобальные масштабы. Я написал: «Если попытаться в двух словах охарактеризовать особенности эпохи, в которую мы живем, то, вероятно, лучше всего подойдет определение: эпоха без правил, что в данном случае адекватно понятию бесправная эпоха». В очередной своей статье я на примере Грузии намерен коснуться одного из конкретных аспектов этой общемировой проблемы.
Сталин, считавшийся величайшим специалистом по национальному вопросу, дал в свое время следующее определение понятия нации: «Нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры». Надо заметить, что в науке существует немало определений нации, но более глубокого, емкого и точного, чем это, я не встречал. Если обратили внимание, среди других компонентов нации в этом сталинском определении присутствует «общность психического склада». Грузины как нация едины, но при этом представляют разные исторические регионы, которые издревле несут в себе массу отличительных признаков: это своеобразные оттенки культуры, характера, традиций, быта и даже антропологических элементов. То есть, отличия между хевсуром и мегрелом, тушином и гурийцем, кахетинцем и аджарцем достаточно ясно бросаются в глаза и обнаружить их несложно любому. Но тогда каким же образом столь разные по своим характерным признакам регионы предстают неотъемлемыми частями единой Грузии? Что означает (на что опирается) само понятие «грузин», если каждая из его составляющих так заметно отличается от других?
Диалектика общности и отличия грузин, которая с виду кажется простой, на самом деле достаточно сложна и противоречива. Этой темы касались многие исследователи, но сегодня я хочу вспомнить одну из работ известного грузинского философа, профессора Венора Квачахия, написанную и опубликованную в 70-х годах прошлого века. Статья называется «Что ответил Важа-Пшавела Акакию Церетели?», и вы уже, конечно, догадались, что речь идет о хорошо знакомой грузинской общественности полемике, в ходе которой Акакий сказал Важе: «Я осуждаю твой язык, пшав». А Важа ему ответил: «Не пугайтесь, никому не навредит бычий рев с горы». Суть спора, думаю, всем понятна: Акакий призвал Важу вместо пшаво-хевсурского диалекта писать свои произведения на литературном грузинском языке. В свою очередь Важа уверенно ответил: в этом нет ничего страшного.
Казалось бы, уже тогда эта полемика или инцидент двух интеллектуальных титанов был исчерпан, тем не менее, спустя почти сто лет философ Венор Квачахия снова задает вопрос: «Что ответил Важа-Пшавела Акакию Церетели?». Как это, «что ответил»?! Будто неясно, что сказал один и как ему возразил другой? Разве выше мы не изложили по возможности максимально просто, о чем, собственно, шла речь? Первый упрекнул второго: лучше бы ты писал на литературном грузинском языке. На что второй ответил: я говорю и пишу на одном из диалектов грузинского, и не вижу в этом никакой проблемы. Помните, как замечательно сказал тот же Важа: «Я не осуждаю ни одно наречие, если оно рода картвельского». Так зачем же понадобилось известному философу через сто лет вновь затронуть этот абсолютно очевидный и простой вопрос, поставив его в такой императивной форме: «Что ответил Важа-Пшавела Акакию Церетели?» Непонятно, что же еще нуждается тут в уточнении? Разве было в том великом стихотворении сказано что-то такое, что спустя целый век неожиданно потребовало очередного философского анализа и разъяснения?
Венор Квачахия рассуждает на эту тему очень интригующе: «В стихотворении, написанном в ответ Акакию, Важа говорит: «Когда собрался я произнести слово, вдруг ужас на меня снизошел. Слово, пришедшее мне на ум, чтобы быть произнесенным, сорвалось с языка и ускользнуло. Я сильно опечалился, будто обрушились дом мой и двор мой». Когда это было, чтобы великому Важе не удалось подыскать нужное слово? Когда случалось, чтобы слово, готовое к высказыванию, убегало у него из уст? И что значит: «я сильно опечалился, будто обрушились дом мой и двор мой»? Что это за мысль такая, которую Важе, всегда говорившему на благословенном грузинском языке, оказалось так трудно выразить?» – спрашивает философ.
Постараюсь по возможности просто передать вам то, что оказалось так трудно выразить гениальному поэту и чему философ Венор Квачахия посвятил упомянутую работу: единство Грузии – высшая ценность, но не меньшей ценностью является и то, что определяет различия между ее регионами, их специфику и особенности. В различиях этих следует искать не инакость, а узоры, обрамляющие и украшающие нашу общность. Надо заботливо беречь единство Грузии, но не менее важно нежно лелеять различия между регионами, чтобы случайно не повредить какое-либо из них. В этом и заключается сложность.
Замечая отличия между хевсуром и мегрелом, тушином и гурийцем, аджарцем и кахетинцем, непременно следует видеть и сходства, которые во многом превосходят эти отличия. Светицховели, Джвари, Сафара, Алаверди, Никорцминда – шедевры архитектуры, созданные в разном стиле. Они сильно отличаются друг от друга, но именно этим обретают особую эстетическую прелесть. Кто сказал, что объединяющие их дух и плоть не значительней и не больше, чем отличающие друг от друга детали, штрихи и орнаменты?! Тут не требуется никаких доказательств, и именно это имел в виду Сталин, приводя в качестве одного из важнейших компонентов нации общность ее психического склада.
Когда мы осознаем то, что называют «общностью психического склада», на которой зиждется единство нации, любые различия регионального характера становятся не только понятны, допустимы, но и вполне закономерны, потому что они свидетельствуют не об инакости, а о красоте, наполненной живым дыханием истории и требующей бережного обращения и ласки.
Затянулась моя мысль. Однако «общность психического склада» связывает и объединяет нацию в единый организм тысячами зримых и незримых нитей. Именно поэтому для небольшой статьи мне понадобилось столь несоразмерно длинное вступление. Одна такая нить (если хотите, жила) – это вино и связанная с ним наша огромная древняя культура виноделия. «Ты – моя лоза!», – грузины веками объединяли в этом величайшем многоголосом песнопении великолепный гимн ей, лозе, и Богу. «Древо извилистое и древо праведное, но что за древо, ты – жизнь земная, ты – рай небесный?». Так в образном народном словотворчестве отражались любовь к лозе и ее значение в жизни нации. Душа и суть грузинского застолья вплетена и органически заключена в экспрессивной поэтической фразе Ладо Асатиани: «И вино в кубке воспарило, словно птица». Григол Орбелиани придал одному из своих патриотических произведений («Тост, или Пир в ночь после войны») форму и содержание тоста. «У нас еще много невыпитых тостов», – предупреждал Галактион, и это являлось своего рода манифестом грузинской застольной культуры и мистического содержания грузинских тостов, достигающих порой невиданных философских высот. «Умоляю, дайте выпить, но не заставляйте меня произносить тост». Это строки замечательной поэтессы Лили Нуцубидзе – она как бы возражает Галактиону, поддавшемуся жажде провозгласить очередной тост. Но нет, это реминисценция грузинского традиционного пира, в котором театрально-патетическая форма тоста заменена желанием «безмолвно насладиться вином хвашиади». В этой фразе богема и артистизм, сопутствующие любому грузинскому застолью, вознесены на новую высоту и представлены под несколько иным эстетическим углом.
Культура вина в Грузии в равномерно сочетается и сливается с проявлениями человеческого счастья и горя. Она одинаково связана с двумя этими крайностями общественного сознания и бытия, и, так же, как цветы и музыка, занимает в них свое неповторимое и совершенно уникальное место. Замечательный философ и социолог Вахтанг Гогуадзе писал: «В духовной жизни человек молится со свечой в руке, а в мирской – с наполненным вином бокалом в руке». Грузинское застолье – это молитва с причащением к крови и телу Христову. С этой точки зрения грузины создали уникальную культуру, подобной которой нет ни у одной нации и цивилизации, хотя к винной благодати приобщились многие народы мира. Среди тех из них, кто обладает культурой винопития, мы, грузины, представляем единственное исключение, поскольку никто в Грузии не пьет вино ради того, чтобы опьянеть. Если для других народов опьянение в определенной (допустимой) мере представляет собой закономерную и логическую цель, связанную с употребления пьянящего напитка, то для грузина насыщение вином (в большинстве случаев даже в чрезмерной дозе), как ни странно, всегда сопровождается словно впитанным из молока матери рефлексом: опьянения как результата ни в коем случае нельзя допустить. Эта странная (практически невыполнимая) задача придает грузинской культуре, связанной с вином, уникальный характер.
К сожалению, в Грузии развернулась безудержная кампания по оскорблению и дискредитации грузинского застолья. К этому добавляется небрежное отношение самих грузин к этой великолепной традиции. Это проявляется, к примеру, в том, что правила грузинского и европейского застолья часто оказываются перемешаны. При этом одно не заменяют другим, что формирует уродливую эклектику, в которой грузинские тосты и европейские танцы (громкая эстрадная музыка) вступают в прямой антагонизм и ущемляют друг друга. Безусловно, каждый вправе руководствоваться той культурой и теми правилами, которых он желает, выбор – это его личное дело, но речь идет о личном выборе, а о том, что насильственное смешение правил погружает весь ритуал в хаос. И еще – прелесть грузинского застолья больше всего обесценивает плохое исполнение. Когда стол ведет талантливый тамада, для участников веселья такое застолье становится незабываемым времяпрепровождением, в то же время бездарные исполнители способны превратить его в настоящий ад, выносить который воспитанному на классических традициях грузину совершенно невозможно!
Одним словом, у грузинского застолья два главных врага. Первый – внешний, который целенаправленно борется за то, чтобы растворить уникальные элементы грузинской винной культуры в подпадающем под общий шаблон конгломерате. Много лет назад Константин Гамсахурдиа написал: «Вы, европейцы, эгоисты. Требуете от нас переродиться, т.е. не быть теми, кем мы были или кем являемся, т.е. стать похожими на вас. И делаете вы это не из любви к нам, а ради того, чтобы вам было удобнее, чтобы все были похожи на вас. Вас много, нас – мало, вы хотите поглотить нас по тому же праву, по которому море поглощает росу, а кит – мелкую рыбешку. Тогда вам уже не придется изучать наши языки, запоминать географические названия нашей страны, выговаривать наши своеобразные имена и фамилии, вы предпочитаете, чтобы все мы вместо Арзакани, Кегва и Тараши стали Джоном, Жаном и Гансом».
Второй враг – внутренний, глупец, плетущийся следом за чуждыми иностранцами, ориентирующийся по эху от их шагов и постоянно насмехающийся над всем грузинским. Он так и не усвоил до конца иноземные правила, но свои при этом начал безрассудно противопоставлять им, отрицая и уничтожая их, пока полностью не растерял. Таким вот образом мы постепенно собственными руками обесцениваем эту свою прекраснейшую культуру, губим ее. И главная причина столь плачевного ее состояния кроется в том, что мы вообще не хотим признавать и отказываемся соблюдать какие бы то ни было правила, что нас увлекла за собой и затянула в безумный водоворот жизнь без правил. Необходимость соблюдать и исполнять их стала нам в тягость. Хуже того, мы начали воспринимать отказ от правил (бесправие) как свободу. Так красиво нам это упаковали, идеологически навязали, выдав за золото чистой пробы. Но не зря ведь говорится, что не все золото, что блестит…
Целенаправленное разрушение системы образования, которое привело к чудовищному падению общего интеллекта и уровня эрудиции нашего населения, очень ослабило национальный иммунитет, лишив нас способности защищать и отстаивать свои высшие ценности. Делается это с единственной целью – подорвать основы единого психического склада грузин, которому Сталин отводил одну из определяющих ролей в дефиниции нации. По мере разрушения этой «психической целостности» народ начинает напоминать тупое стадо, которое даже простому пастуху нетрудно погнать в любую нужную ему сторону.
А пастуха нам, можете не сомневаться, пришлют!
Валерий Кварацхелия